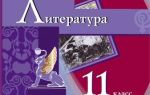Время ускользает в краткий миг между сном и пробуждением. В течение нескольких секунд повествователю Марселю кажется, будто он превратился в то, о чем прочитал накануне. Разум силится определить местонахождение спальной комнаты.
Неужели это дом дедушки в Комбре, и Марсель заснул, не дождавшись, когда мама придёт с ним проститься? Или же это имение госпожи де Сен-Лу в Тансонвиле? Значит, Марсель слишком долго спал после дневной прогулки: одиннадцатый час — все отужинали! Затем в свои права вступает привычка и с искусной медлительностью начинает заполнять обжитое пространство.
Но память уже пробудилась: этой ночью Марселю не заснуть — он будет вспоминать Комбре, Бальбек, Париж, Донсьер и Венецию.
Продолжение после рекламы:
В Комбре маленького Марселя отсылали спать сразу после ужина, И мама заходила на минутку, чтобы поцеловать его на ночь. Но когда приходили гости, мама не поднималась в спальню. Обычно к ним заходил Шарль Сван — сын дедушкиного друга. Родные Марселя не догадывались, что «молодой» Сван ведёт блестящую светскую жизнь, ведь его отец был всего лишь биржевым маклером.
Тогдашние обыватели по своим воззрениям не слишком отличались от индусов: каждому следовало вращаться в своём кругу, и переход в высшую касту считался даже неприличным.
Лишь случайно бабушка Марселя узнала об аристократических знакомствах Свана от подруги по пансиону — маркизы де Вильпаризи, с которой не желала поддерживать дружеских отношений из-за твёрдой веры в благую незыблемость каст.
После неудачной женитьбы на женщине из дурного общества Сван бывал в Комбре все реже и реже, однако каждый его приход был мукой для мальчика, ибо прощальный мамин поцелуй приходилось уносить с собой из столовой в спальню.
Величайшее событие в жизни Марселя произошло, когда его отослали спать ещё раньше, чем всегда. Он не успел попрощаться с мамой и попытался вызвать её запиской, переданной через кухарку Франсуазу, но этот маневр не удался.
Решив добиться поцелуя любой ценой, Марсель дождался ухода Свана и вышел в ночной рубашке на лестницу. Это было неслыханным нарушением заведённого порядка, однако отец, которого раздражали «сантименты», внезапно понял состояние сына. Мама провела в комнате рыдающего Марселя всю ночь.
Когда мальчик немного успокоился, она стала читать ему роман Жорж Санд, любовно выбранный для внука бабушкой. Эта победа оказалась горькой: мама словно бы отреклась от своей благотворной твёрдости.
Брифли существует благодаря рекламе:
На протяжении долгого времени Марсель, просыпаясь по ночам, вспоминал прошлое отрывочно: он видел только декорацию своего ухода спать — лестницу, по которой так тяжко было подниматься, и спальню со стеклянной дверью в коридорчик, откуда появлялась мама.
В сущности, весь остальной Комбре умер для него, ибо как ни усиливается желание воскресить прошлое, оно всегда ускользает.
Но когда Марсель ощутил вкус размоченного в липовом чае бисквита, из чашки вдруг выплыли цветы в саду, боярышник в парке Свана, кувшинки Вивоны, добрые жители Комбре и колокольня церкви Святого Илария.
Этим бисквитом угощала Марселя тётя Леония в те времена, когда семья проводила пасхальные и летние каникулы в Комбре. Тётушка внушила себе, что неизлечимо больна: после смерти мужа она не поднималась с постели, стоявшей у окна.
Любимым её занятием было следить за прохожими и обсуждать события местной жизни с кухаркой Франсуазой — женщиной добрейшей души, которая вместе с тем умела хладнокровно свернуть шею цыплёнку и выжить из дома неугодную ей посудомойку.
Марсель обожал летние прогулки по окрестностям Комбре.
У семьи было два излюбленных маршрута: один назывался «направлением к Мезеглизу» (или «к Свану», поскольку дорога проходила мимо его имения), а второй — «направлением Германтов», потомков прославленной Женевьевы Брабантской.
Детские впечатления остались в душе навсегда: много раз Марсель убеждался, что по-настоящему его радуют лишь те люди и те предметы, с которыми он столкнулся в Комбре.
Направление к Мезеглизу с его сиренью, боярышником и васильками, направление в Германт с рекой, кувшинками и лютиками создали вечный образ страны сказочного блаженства. Несомненно, это послужило причиной многих ошибок и разочарований: порой Марсель мечтал увидеться с кем-нибудь только потому, что этот человек напоминал ему цветущий куст боярышника в парке Свана.
Продолжение после рекламы:
Вся дальнейшая жизнь Марселя была связана с тем, что он узнал или увидел в Комбре. Общение с инженером Легранденом дало мальчику первое понятие о снобизме: этот приятный, любезный человек не желал здороваться с родными Марселя на людях, поскольку породнился с аристократами.
Учитель музыки Вентейль перестал бывать в доме, чтобы не встречаться со Сваном, которого презирал за женитьбу на кокотке. Вентейль не чаял души в своей единственной дочери. Когда к этой несколько мужеподобной на вид девушке приехала подруга, в Комбре открыто заговорили об их странных отношениях.
Вентейль несказанно страдал — возможно, дурная репутация дочери до срока свела его в могилу. Осенью того года, когда наконец умерла тётя Леония, Марсель стал свидетелем отвратительной сцены в Монжувене: подруга мадемуазель Вентейль плюнула в фотографию покойного музыканта.
Год ознаменовался ещё одним важным событием: Франсуаза, поначалу рассерженная «бездушием» родных Марселя, согласилась перейти к ним на службу.
Из всех школьных товарищей Марсель отдавал предпочтение Блоку, которого в доме принимали радушно, невзирая на явную претенциозность манер. Правда, дедушка посмеивался над симпатией внука к евреям. Блок рекомендовал Марселю прочесть Бергота, и этот писатель произвёл на мальчика такое впечатление, что его заветной мечтой стало познакомиться с ним.
Когда Сван сообщил, что Бергот дружен с его дочерью, у Марселя замерло сердце — только необыкновенная девочка могла заслужить подобное счастье. При первой встрече в тансонвильском парке Жильберта посмотрела на Марселя невидящим взглядом — очевидно, это было совершенно недоступное создание.
Родные же мальчика обратили внимание лишь на то, что госпожа Сван в отсутствие мужа бесстыдно принимает барона де Шарлю.
Брифли существует благодаря рекламе:
Но величайшее потрясение испытал Марсель в комбрейской церкви в тот день, когда герцогиня Германтская соизволила посетить богослужение.
Внешне эта дама с большим носом и голубыми глазами почти не отличалась от других женщин, но её окружал мифический ореол — перед Марселем предстала одна из легендарных Германтов.
Страстно влюбившись в герцогиню, мальчик размышлял о том, как завоевать её благосклонность. Именно тогда и родились мечты о литературном поприще.
Лишь спустя много лет после своего расставания с Комбре Марсель узнал про любовь Свана. Одетта де Креси была единственной женщиной в салоне Вердюренов, куда принимались только «верные» — те, кто считал доктора Котара светочем премудрости и восторгался игрой пианиста, которому в данный момент оказывала покровительство госпожа Вердюрен.
Художника по прозвищу «маэстро Биш» полагалось жалеть за грубый и вульгарный стиль письма. Сван считался завзятым сердцеедом, но Одетта была совсем не в его вкусе. Однако ему приятно было думать, что она влюблена в него. Одетта ввела его в «кланчик» Вердюренов, и постепенно он привык видеть её каждый день.
Однажды ему почудилось в ней сходство с картиной Боттичелли, а при звуках сонаты Вентейля вспыхнула настоящая страсть. Забросив свои прежние занятия (в частности, эссе о Вермеере), Сван перестал бывать в свете — теперь все его мысли поглощала Одетта.
Первая близость наступила после того, как он поправил орхидею на её корсаже — с этого момента у них появилось выражение «орхидеиться». Камертоном их любви стала дивная музыкальная фраза Вентейля, которая, по мнению Свана, никак не могла принадлежать «старому дураку» из Комбре. Вскоре Сван начал безумно ревновать Одетту.
Влюблённый в неё граф де Форшвиль упомянул об аристократических знакомствах Свана, и это переполнило чашу терпения госпожи Вердюрен, всегда подозревавшей, что Сван готов «дёрнуть» из её салона. После своей «опалы» Сван лишился возможности видеться с Одеттой у Вердюренов.
Он ревновал её ко всем мужчинам и успокаивался лишь тогда, когда она находилась в обществе барона де Шарлю. Услышав вновь сонату Вентейля, Сван с трудом сдержал крик боли: не вернуть уже того прекрасного времени, когда Одетта безумно его любила. Наваждение проходило постепенно.
Прекрасное лицо маркизы де Говожо, урождённой Легранден, напомнило Свану о спасительном Комбре, и он вдруг увидел Одетту такой, как она есть — не похожей на картину Боттичелли. Как могло случиться, что он убил несколько лет жизни на женщину, которая ему, в сущности, даже и не нравилась?
Марсель никогда не поехал бы в Бальбек, если бы Сван не расхвалил ему тамошнюю церковь в «персидском» стиле. А в Париже Сван стал для мальчика «отцом Жильберты».
Франсуаза водила своего питомца гулять на Елисейские поля, где играла девичья «стайка» во главе с Жильбертой. Марселя приняли в компанию, и он полюбил Жильберту ещё сильнее.
Его восхищала красота госпожи Сван, а ходившие о ней толки пробуждали любопытство. Когда-то эту женщину звали Одетта де Креси.
По направлению к Свану :: Пруст Марсель
Аннотация: Изысканный и причудливый мир прустовской прозы воссоздает бесконечно увлекательное и удивительно разнообразное движение человека в глубины своей внутренней вселенной.
От строчки к строчке Марсель Пруст перебирает отзвуки бесед, дуновения ароматов, осыпающиеся лепестки воспоминаний и терпеливо выстраивает на этой основе величественное здание главного произведения своей жизни, известного под названием «В поисках утраченного времени».
В основу этого воздушного храма красоты и переменчивой гармонии лег роман «По направлению к Свану» — первый шаг в мир, где прошлое и настоящее образуют сложный узор, следы которого с тех пор можно отыскать у самых разных «архитекторов» мировой литературы. ———————————————
- Марсель Пруст
- По направлению к Свану
- (В поисках утраченного времени — 1)
- Гастону Кальмету — в знак глубокой и сердечной благодарности.
Характеристика главных героев «Алисы в стране чудес»
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- КОМБРЕ
- I
Давно уже я привык укладываться рано. Иной раз, едва лишь гасла свеча, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю».
А через полчаса просыпался от мысли, что пора спать; мне казалось, что книга все еще у меня в руках и мне нужно положить ее и потушить свет; во сне я продолжал думать о прочитанном, но мои думы принимали довольно странное направление: я воображал себя тем, о чем говорилось в книге, — церковью, квартетом, соперничеством Франциска 1 и Карла V [1] . Это наваждение длилось несколько секунд после того, как я просыпался; оно не возмущало моего сознания — оно чешуей покрывало мне глаза и мешало им удостовериться, что свеча не горит. Затем оно становилось смутным, как воспоминание о прежней жизни после метемпсихоза; сюжет книги отделялся от меня, я волен был связать или не связать себя с ним; вслед за тем ко мне возвращалось зрение, и, к своему изумлению, я убеждался, что вокруг меня темнота, мягкая и успокоительная для глаз и, быть может, еще более успокоительная для ума, которому она представлялась, как нечто необъяснимое, непонятное, как нечто действительно темное. Я спрашивал себя, который теперь может быть час; я слышал свистки паровозов: они раздавались то издали, то вблизи, подобно пению птицы в лесу; по ним можно было определить расстояние, они вызывали в моем воображении простор пустынных полей, спешащего на станцию путника и тропинку, запечатлеющуюся в его памяти благодаря волнению, которое он испытывает и при виде незнакомых мест, и потому, что он действует сейчас необычно, потому что он все еще припоминает в ночной тишине недавний разговор, прощанье под чужой лампой и утешает себя мыслью о скором возвращении.
Я слегка прикасался щеками к ласковым щекам подушки, таким же свежим и пухлым, как щеки нашего детства. Я чиркал спичкой и смотрел на часы. Скоро полночь. Это тот самый миг, когда заболевшего путешественника, вынужденного лежать в незнакомой гостинице, будит приступ и он радуется полоске света под дверью.
Какое счастье, уже утро! Сейчас встанут слуги, он позвонит, и они придут к нему на помощь. Надежда на облегчение дает ему силы терпеть. И тут он слышит шаги. Шаги приближаются, потом удаляются. А полоска света под дверью исчезает.
Это — полночь; потушили газ; ушел последний слуга — значит, придется мучиться всю ночь.
Я засыпал опять, но иногда пробуждался ровно на столько времени, чтобы успеть услыхать характерное потрескиванье панелей, открыть глаза и охватить взглядом калейдоскоп темноты, ощутить благодаря мгновенному проблеску сознания, как крепко спят вещи, комната — все то бесчувственное, чьею крохотной частицей я был и с чем мне предстояло соединиться вновь.
Человек-роман ПРУСТ «В сторону Свана»
Жизнь модернистского романа в европейских литературах оказалась не длиннее человеческой жизни. Этот революционный жанр покоился на спинах трех китов, задавших его параметры: Пруста, Джойса и Кафки, с чем согласно большинство литературоведов.
Расцвет их творчества пришелся на Первую мировую войну, которой они почти не заметили, будучи заняты другим.
Дело к этому шло давно, но они сумели, как никто до них, развернуть литературу в сторону внутренней жизни человека и освободить от диктата социально-исторической проблематики, в путах которой увяз традиционный реалистический роман. Правы и неправы обе тенденции, но именно так и бывает всегда в жизни и в искусстве.
Разворот в умах и литературный переворот произошел на фоне и в результате революционных научных открытий (Дарвина, Фрейда, Эйнштейна и др.) и неслыханного технического прогресса (средств передвижения, связи, строительства… и уничтожения), к чему человечество оказалось совершенно не готово.
Никогда еще мир не менялся так стремительно и головоломно – отсюда масштаб той войны, которую в Западной Европе и сто лет спустя принято называть Великой. Глобализация, алчность, ничтожество позитивистской философии, раздрай политической мысли, демография – все к этому располагало.
Марсель Пруст (1871–1922) старший из трех корифеев модернистского романа и, соответственно, самый традиционный из них. Этого родоначальника жанра с равным успехом можно назвать также могильщиком традиционного романа.
Он подводил черту, и в его грандиозной семитомной эпопее «В поисках утраченного времени» отпечатались и застыли, словно мухи в янтаре, столетия французской литературы и мысли.
«Поток сознания» у Пруста авторский и грамматически правильный, а не полифоничный и аграмматичный, как в «Улиссе» Джойса, ставшего жертвой собственных куда более радикальных и уже совершенно не читаемых «Поминок по Финнегану».
Кафка также пал жертвой собственного художественно-философского радикализма. В «Процессе», «Замке» и притчах он бросил вызов Создателю и боролся с Ним, желая пройти во «врата Закона» или подняться по «лестнице Иакова», и был повержен, но не посрамил чести. Он – суицидальный герой.
Джойс затевал свою «книгу книг» с намерением включить в нее все основные смыслы и сюжеты греко-римо-христианской цивилизации и, описав скрупулезно день своих героев с утра и до ночи, вывести в пародийном ключе формулу человеческой жизни как таковой.
Кафку не занимало ничто иное, кроме кратчайшей дороги в несуществующий или недоступный в принципе (невелика разница) Рай. По сравнению с этими одержимыми Пруст – респектабельный автор-долгожитель.
Пятидесяти лет жизни и десяти лет сизифова труда писателю достало, чтобы справиться с поставленной им перед собой и стоящей перед каждым из нас задачей. А именно: собрать прожитую жизнь из разрозненных и траченных временем фрагментов, чтобы обрести целостность и постичь смысл всего случившегося с тобой.
Искусство всегда пыталось противостоять времени, дающему жизнь и одновременно отбирающему ее (пушкинское «и каждый час уносит частичку бытия»). Поэтому «поиски утраченного времени» – это и есть задача задач искусства литературы. Пруст безошибочно выбрал цель.
Его «поиски» были созвучны философии Бергсона и Гуссерля и физике Эйнштейна, акцентировавших текучую «длительность» времени, его «интуитивное переживание», и его парадоксальную «относительность».
Ведь что такое человеческая память, – если речь идет не об усвоенных сведениях, а о значимых событиях, – как не память о том, чего больше нет? Она травматична и похожа на зарубки, оставленные временем, или на отвалы не прожитого как надлежит, в полную силу, опыта.
Восточными мудрецами высказывалась мысль, что абсолютное переживание не оставляет следа: что можно сказать об оргазме, миге на волосок от гибели (пушкинское «мрачной бездны на краю»), волнующем сновидении или выпадении в нирвану, кроме констатации того, что они были и только? Однако жизнь не состоит из одних пиков, но также из подъемов и спусков, томления и упований, и даже животным, самозабвенно живущим только «здесь и сейчас», не откажешь в наличии кое-каких воспоминаний. В реактивности – способности воспринимать, реагировать и помнить – заключается главное отличие живой природы от безжизненной, как известно. Поэтому даже растения обладают памятью и некой волей к жизни.
Так вот, Пруст изобрел своеобразную технику активации, возгонки и дожития воспоминаний, позволяющую аннулировать время, достигнуть невероятной интенсивности переживания, обрести цельность личности со всеми «потрохами» и на всех уровнях.
Смутные эмоции становятся у Пруста внятными чувствами, рефлексия не разъедает, а скрепляет воедино все ингредиенты, сырое становится печеным, съедобным и… вкусным.
Спасибо горьковатому миндальному прянику, размоченному в сладком чае – знаменитой «мадленке» Пруста, пробудившей больного астмой писателя к новой жизни и подарившей читателям удивительный инструмент для собирания самих себя из фрагментов «утраченного времени» – для моделирования и понимания собственных жизней.
Об этом рассказывается в «Комбре» – первой и самой замечательной части прустовской эпопеи. С некоторой натяжкой эту повествовательную увертюру можно сравнить с толкиеновским «Хоббитом», в котором уже все есть, что будет в трехтомном «Властелине колец», только в свернутом, экономном и прозрачном виде, без избыточного многословия и тяжеловесности.
Свою обитую пробкой комнату с зашторенными окнами астматик Пруст превратил в подобие кинозала для одного человека, где он предавался грезам по ночам и отсыпался днем, и где создал поразительно грациозную повесть взрослого человека о своем детстве, смысл которого для него только теперь вдруг прояснился, и все, что он некогда любил, ожило, пришло в движение и заговорило. И это не было бегством писателя в детство, а воскрешением и возвращением его в строй и в состав взрослой личности – поумневшей и, наконец-то, счастливой.
Прустовская методика обретения счастья развилась из таких пустяков (ахматовского «такого сора»), как вкус размокшей в чае печенюшки; как неожиданно долетевший запах из детства, пробивающий до мозга костей; как бессмысленное сочетание звуков забытой мелодии, стишка, чьего-то имени, вдруг открывающих все заржавленные запертые двери. Таким образом, «я» – это дом памяти, книга – ее концентрат, а автор книги – сам себя написавший человек-роман. Доставшееся нам даром от Создателя время (по замечательному выражению прустовской служанки) требует от человека душевного труда, как минимум, и только тогда обретает смысл и цену.
Люди философского склада, такие как «фанаты» Пруста Делёз и Мамардашвили, это понимают.
Писатели вроде Гончарова, автора «Обломова», тоже; а вроде Горького-Пешкова – нет: «Французы дошли до Пруста, который писал о пустяках фразами по тридцать строк без точек».
Беллетристам, вроде Нагибина, Пруст мил, поскольку позволяет в охотку расписаться на тысячи страниц и, гипотетически, тем самым снискать славу. Но не получится.
Задним числом очевидно, что Пруст шел к своему роману всю сознательную жизнь, и все у него шло в дело: перевод книг культового британского искусствоведа Рёскина – и изучение по любви и избирательному сродству фламандской, венецианской и отечественной живописи; полученное сызмалу женское воспитание – и, соответственно, склонность к девиации полового поведения; апология болезни – и репортажи о событиях великосветской жизни для «Фигаро»; благоприобретенный снобизм – и скепсис по отношению к нему; традиции картезианского рассудочного мышления – и поэтические способности; полемика с Сент-Бёвом и стендалевской романистикой – и согласие с бергсоновской концепцией времени; маниакальность, наконец, как непременный признак гениальности.
И все же в чем-то прав и родоначальник соцреализма Горький – потому что есть правда «мира», и есть правда «войны». Чтобы не «размазывать белую кашу по чистому столу», по выражению франкофила Бабеля в «Одесских рассказах», читателям не помешает узнать, как скончался первый переводчик Пруста на русский язык Адриан Франковский.
А.Н. Болдырев 12 февраля 1942 года смог записать: «Когда ушел он – неизвестно, известно лишь, что около 12 ч. в ночь с 31-го на 1-е февраля он шел по Литейному на угол Кирочной и ощутил такой упадок сил, что вынужден был отказаться от мысли дойти до дому.
Он свернул на Кирочную, чтобы искать приюта у Энгельгартов (дом Анненшуле), но по лестнице подняться уже не мог. Упросил кого-то из прохожих подняться до квартиры Энгта, известить их. Было 12 ч. В этот момент как раз испустил дух на руках у жены сам Энгельгарт.
Она, больная, температура 39, крупозное воспаление легких, сползла вниз (прохожие отказались помочь) и втащила А. А., уложила его на „еще теплый диван Энгельгарта“. Там он лежал и там умер 3-го утром. Жена Энгельгарта кого-то просила передать, чтобы зашли к ней знакомые его, узнать обо всём.
Сразу они не смогли, а когда зашли, числа 7-го, 8-го, обнаружили, что жена Энгта тоже умерла накануне. По-видимому, перед смертью ей удалось отправить в морг Дзержинского района тела Энгельгарта и Франковского вместе, на одних санках».
Так что, с чувством вкушая с Прустом похожее на морскую ракушку печенье «мадлен», размоченное в теплом чае, не забывай, читатель, и о 125 граммах блокадного черного хлеба, похожего на полкуска хозяйственного мыла…
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Творч-во Пруста. Своеобразие метода и стиля романа «В сторону Свана»
Пруст – представитель модерн. романа. У многих модернистов их болезненное состояние отражается в произведениях.
Пруст болел астмой (аллергия на шум), жил почти в полной изоляции. Пруст – один из «китов» модернизма, основатель ассоциативного письма (припоминание событий одного за другим, цепочка событий). Идея о сусъективности времени – основополагающая.
Эпопея «В поисках утраченного времени» – концепция субъект. времени уже в названии. На ней же основана стр-ра. В разных изданиях кол-во томов отлич-ся (Фр. – 15, др. – 16).
7 романов (двойная дилогия + роман-эпилог): «В сторону Свана» (1913); «Под сенью девушек в цвету» (о поре влюбленности героя – Жильберта) – получил Гонкуровскую премию; «Сторона Германтов» (страна аристократич. мира, к кот.
стремится маленький Марсель); «Содом и Гоморра» (путешествие по большим городам, действие накануне 1МВ); «Пленница» ( о 2й влюбленности Марселя, Альбертина – пленница своих иллюзий и инстинктов); «Беглянка» (уход Альбертины от проблем с помощью иллюзий); «Обретенное время».
Проблема творч. метода.Укладывается в черты модернизма, но мн. исследов-ли гов. о присутствии черт реализма, т. к. герой П. – чел-к рефлексирующий. Андреев также видит черты натурализма (в изображении интимной жизни). Но глобальный метод, кот. признает сам П. – импрессионизм – штрихами впечатлений создает яркую картину. => метод синтетич. (синтез традиц. и авангар. иск-в).
Стиль.Атмосфера романа – атмосфера погружения во впечатления героя путем ассоциаций. Андреев: глюприем – прием матрешки (сл/соч. и сл/подчин. предложения, нанизывающиеся др. на др. , много п. о. и д. о.
– растягиваются порой на 1, 5-2 стр). Сквозные темы в романе: 1) воспитание чувств мол. чел-ка (оформилась ещё у Флобера). Поиск нравств. идеала. Марсель проходит ч/з множество испытаний, но ост-ся нравст. чел-м; 2) тема любви (2 любви.
Альбертина гибнет).
Проблема автобиографизма.Мн. называют роман автобиографич. , но роман выстроен так, что в нем много обобщений, поэтому автобиограф. его называть неверно. «В сторону Свана».3 части: 1. «Комбре» – город детства Марселя, детство героя. Динамики сюжета почти нет, гл.
сюжет – отношение маленького Марселя к «мамочке»; 2. «Любовь Свана» – некая интерлюдия в романе, обособленное от линии гл. героя повеств=е; 3. «Имена стран: имя» – 1-я страна – любовь, остается нереализованной, продолжение в «Под сенью девушек в цвету» (1. «Вокруг г-жи Сван»; 2.
«Имена стран: страна» – любовь реализована) – показан процесс эволюции чувств. Апология воспоминания – когда Марсель пьеб чайс печеньем и вспоминает подобный эпизод из детства. Герой постепенно разочаровывается в своих идеалах. Дается описание дух. жизни др. стран, что тоже разочар-т Марселя.
Роман малодинамичен, в нем главное – стиль, в основе кот. – лирич. начало и иронич. Подтекст
Воплощение идеала христ. гуманизма в творч-ве Мориака. Своеобразие романа «Клубок змей».
В основе романов Мориака – концепция 3х конфликтов: м/у богом и чел-м (поведение чел-ка и христ. доктрина); м/у мужчиной и женщиной; м/у чел-м и его совестью (нравств).
Мориак – представитель направления христ.гуманизма. Выход для чел-ка – в обращении к богу. В основном М. – романист.
Общие черты в романах,чаще всего схожая проблематика в романах: Небольшой объем;Атмосфера, связанная с географич. ситуацией. Место действия – чаще всего провинция на сев. Фр.серо-пасмурная атмосфера; проблематика нравственно неблагополучная жизнь семьи.
разлад и отчуждение в среде,одиночество чела в кругу близких.трагич накал страстей всегда,чувства представляет искаженными.темперамент чела определяет его судьбу – принцип как у Фрейда.
романТереза Дескейру –сближение с Достоевским:фабула не главное,она подчинена исследованию психологич фона.
«Кл. змей» (1939). Клубок змей – желание отомстить, досадить; это клубок страсти,а ненависти. Клубок змей – это 1. бурж.
семья, где все отравляют друг друга и самих себя ядом ненависти и обмана;это змеи ненависти,котор живут в душе гл героя,он задыхается от ненав родственников.но гл враг-он сам.алчность и ненависть превращ людей в гадюк.герой-носитель образа неудачника.
это нечистые страсти, это сердце каждого члена семьи;обобщенный портрет класса, разоблачающий миф о респектабельности и монолитности семьи.
Роман написан от 1го лица – от имени адвоката Луи. В некотором роде это – роман-дневник, роман-исповедь. Луи – крайне закомплексованный, неуверенный в себе. С появлением жены его комплекс на некот. время уходит. В итоге Луи приходит к богу. В основе своей – реалистич. роман, но есть черты фрейдизма. Часто говорят, что это роман-вариант «Скупого».
Разоблачение дается изнутри – роман строится как монолог, исповедь главы семьи. Он не пытается себя обелить, не выставляет себя невинной жертвой; но все же он умеет взглянуть на племя приобретателей как бы со стороны, и с особой зоркостью видит клубок пороков в этом скопище собственников.
Стяжатели Бальзака – Гобсек или папаша Гранде – это характеры сильные и цельные, фанатики и мономаны, вызывающие отвращение, но и поражающие размахом своих страстей. У героев Мориака все мелко, подленько — и, конечно, не менее страшно: тем нелепее кажется власть этих полутрупов над живыми людьми. Мориака интересует психология собственника, а не его соц.
практика; Мориак рисует своих персонажей не в «деловых» схватках с конкурентами, а в семье, при дележе награбленного.
«Кл. змей» (1939). Клубок змей – желание отомстить, досадить; это клубок страсти, но не любви, а ненависти. Клубок змей – это 1. бурж. семья, где отец, мать, дед, внуки – все отравляют друг друга и самих себя ядом ненависти и обмана;
2. это нечистые страсти, это сердце каждого члена семьи;
3. обобщенный портрет класса, разоблачающий прекраснодушный миф о респектабельности и монолитности семьи.
Ощущение соц. опасности стяжателя здесь ослабевает, но его нравственное уродство передано с огромной выразит-ю. И особенно выделяется писателем мотив чудовищ-го дух. одиноч-ва людей в мире лавочников, нотариусов и рантье.
Стр-ра, проблем-ка и жанр романа Р. Роллана «Очарованная душа».
Роллан получил муз. образование, исследовал музыку. После войны 1914г. увлекся театром. Создал свой «театр революции» – написал драмы почти о всех самых выдающихсядеятелях революции (#, «Робеспьер»). Майя Ив. Кудашкина (из круга М.
Цветаевой) пробудила в Роллане чувства к России. Роллана связывала дружба с Горьким – оба искали новый тип героя. От революции был в восторге, но позже разочаровался в России.
Увлекался марксизмом/ленинизмом, гандизмом – пытался «совместить лед и пламень».
«Очарованная душа» (1922-1933). Многотомная стр-ра: 1кн. –«Аннета и Сильвия» (1922)» 2 – «Лето» (1922) (зрелость Аннеты); 3 – «Мать и сын» (1926); 4 – «Провозвестница» (революции, прихода новообразований), т. 1 – «Смерть одного мира» (1932), т. 2 – «Рождение» (1933) => пенталогия, а не тетралогия.
Связь с «Жаном-Кристофом»: роман-река. Аннета – одно из самых распространенных имен во фр. традиции = типичность героини. Ривьер – «река». Цель – показать судьбу представителя интеллигенции, проблема европ. интеллигенции. Интел. д. включ-ся в общест. процессы. Аннета первое время очарована иллюзиями бурж.
сознания, но позже этот покров спадает. Роман динамичен по сюжетике. Смерть отца => утрата иллюзий (связь с классич. лит-рой) – Аннета узнает о побочной семье. Судьба не сгибает Ан. («Бургундская тёлочка» Аннета – сильна, чиста и т. д. ). одна из проблем – отношение фр. общ-ва к внебрачным связям и детям. На протяжении всей жизни Ан.
сопртивл-ся трудностям.
Тимон – // Тимон Афинский. События 1МВ, Марк – антифашист. Ч/з историю Тимона – взгляд на бурж. прессу. Тема взаимоотнош-й с русскими – Ася – показана загадочн. душа рус. чел-ка.
Ася из среды белой эмиграции. Вопрос Вани про форель, кот. плывет против течения – сравнение с чел-м, кот. д. плыть VS течения, чтобы не погибнуть. В финале романа – образ автора, кот.
описан как герой, знакомый с Аннетой.
Прием муз. соответствий, созвучий – по этому принципу выстроена образн. система романа; созвучия: Ан. – Сильвия, Ан. – Марк, Ан. – Роже Бриссо, Ан – Тимон, Ан. – Ванечка. Роллан настаивал на метафоричности финала – образ Вани (ребенок (залог будущего процветания Фр. ), наполовину француз, наполовину рус (образец стойкости и мужества).
Концепция гуманизма в творч-ве Сент-Экзюпери. Своеобразие повести «Планета людей».
эссеист,сказочник,тяготеет к афористичности,любил жанр притчи.произведения чаще всего небольшие,от 1 лица,или обращение к герою.герои имеют реальных прототипов(друзей Экзюпери).частый герой-летчик.нет особого сюжета,есть особая лиричность,философский диалог с читателем.Гуманизм Экз. люди д.
объединиться в своих усилиях по сохранению мира, Земли;люди не д. враждовать; призыв к отсутствию классовой борьбы; чел-к д. б. ответственен за своих ближних.Почта, письма – оч. важная для Экз. часть бытия; здесь велика роль авиации. Общие черты произведений:гл.
герой – летчик-рассказчик,кабина летчика – место д. многих произведений;мотив авиакатастрофы,нередко герой гибнет. Мотив преемственности, дружбы авиаторов (довести дело погибшего товарища до конца);тема любви:летчик в личн. жизни не бывает счастлив до конца (отголоски истории с женой, аргентинкой Консуэлой, кот.
была оч. взбалмошна, из окружения Пикассо), мотив неудачной любви.
Повесть «Южный почтовый». Гл. герой–летчик почтовой авиации Жак Барнис, для него небо – жизнь. Мало динамики. Много автобиогр. мотивов. В самой профессии летчика заложен мотив трагизма, готовность погибнуть; летчик не м. жить обычной жизнью. Жак гибнет. Рассказ-ся о горе близких. Друзья доставляют груз до места назначения – гуманистич. финал.
«Ночной полёт» – история жизни и гибели летчика Фабьена, кот. участвует в ночных эксперимент. полетах над Кордильерами не характ-но для того времени). Гибнет. Мужская солидарность – друзья-летчики доставляют груз до места.
«Планета людей». Мозаичная стр-ра, нет единого сюжета. Много воспоминаний автобиогр. хар-ра. Чувство солидарности людей др. с др. Есть вставные новеллы:новелла о летчик Гийоме, кот. часто сравнивают с др. произведениями мировой лит-ры (Лондон «Любовь к жизни», Полевой «Повесть о настоящем чел-ке»).
Подлинной, деятельной любовью к людям дышит лучшая его повесть – “Планета людей” (1939). Когда началась война, он уже был признан негодным для службы в авиации, но вернулся на самолет и воевал до того дня, пока Францию захватил враг.
“Планета людей” – это прекрасный сборник эссе. Рассказ о первом полете над Пиренеями, о том, как старые, опытные летчики приобщают к ремеслу новичков. О том, как во время полета происходит борьба с “тремя изначальными божествами – с горами, морем и бурей”.
Портреты товарищей автора – Мермоза, исчезнувшего в океане, Гийоме, который спасся в Андах, благодаря своему мужеству и упорству.
Эссе о “самолете и планете”, небесные пейзажи, оазисы, посадки в пустыне, в самом стане мавров (первобытное племя, жившее в пустыне), и рассказ о том, как затерявшись в ливийских песках, сам автор чуть не умер от изнурительной жажды.
Но сюжеты сами по себе мало что значат, главное то, что человек, который обозревает с такой высоты планету людей, знает: “Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека”.
Опыт победы над временем
Нельзя сказать, что есть какая-то загадка в том, что первая великая книга ХХ века поначалу оказалась незамеченной. Все очень понятно. Через несколько месяцев после выхода “В сторону Свана” началась война, и заговорили о Прусте только после того, как она кончилась.
К тому же это был только первый том, и в нем достаточно вещей, которые становятся по-настоящему внятными только по мере чтения следующих частей.
Странное членение, невозможно странный ритм, странная логика, только притворяющаяся поначалу тривиальной — мол, детство, отрочество, юность; странно обособленный флешбэк о любви Свана, где повествование от первого лица вдруг пропадает; непривычный угол зрения и непривычная иерархия персонажей — самые поэтичные и тонкие страницы могут быть посвящены вовсе даже кухарке, и притом совсем не потому, что рассказчик испытывает к ней необыкновенно теплые чувства (он вообще по отношению к своим персонажам скорее бесстрастен). Тем более что читателю, пока он имеет дело с первым томом, естественно, невдомек, что даже по части голых сюжетных поворотов с этими персонажами еще произойдут невесть какие чудеса, и вот эта противная г-жа Вердюрен в конце концов станет герцогиней Германтской,— да и не настраивает роман на то, чтобы ждать от него чисто сюжетной увлекательности.
И все-таки самые важные, едва ли не ключевые прустовские постулаты о восприятии, творчестве, познании, памяти — они уже проговорены, уже есть здесь, в первой книге.
Есть, во-первых, при всей своей затасканности, великолепная сцена невольного припоминания — печенье “Мадлен” в липовом чае, но есть, может быть, даже более существенный (хотя почти никак не выделенный автором) эпизод с мартенвильскими колокольнями, где рассказчик будто бы ненароком сетует: “…В уме моем беспорядочно накоплялись (вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мною во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками): камень, на котором играл блик, крыша, звук колокола, запах листьев — множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался с силами раскрыть ее природу”.
В самом деле, почему красивое — красиво? То есть в таком виде это, конечно, дурацкий вопрос, на который к тому же философия, эстетика и психология за последние три тысячи лет потрудились дать мириады возможных ответов, которые сейчас кажутся когда более, когда менее смешными.
Нет, ну а если по существу: ведь бывает же так, и часто, что вот сталкиваешься с красивым пейзажем, с красивой мелодией, с красивым лицом, с красивой строчкой — и отдаешь себе отчет в том, что да, нравится, чудесно, удивительно.
Но дальше-то что? За этими впечатлениями каждый раз на секунду мерещится (совсем далеко, буквально на донышке сознания) что-то, не то воспоминание, не то обещание, не то приглашение, толком не разберешь.
И кажется, что если сделать усилие и ухватить этот проблеск, зафиксировать его, то станет легче и понятнее. Одна беда — не получается. Некогда, недосуг, лень.
Вот эту инертность восприятия что есть мочи расшатывает Пруст: старается ухватить, зафиксировать, не упуская ни малейшей черточки, по возможности вербализировать, раздувая отдельные предложения до нескольких страниц, но только затем, получается, что от этого казуса надо перейти к другому — и так, кажется, до бесконечности.
Нить разматывается и разматывается, вспоминаемые события и ощущения громоздятся в мнимом беспорядке: смерть Свана (которому Рассказчик, по его собственному признанию, прямо или косвенно обязан главными впечатлениями своей жизни) вообще где-то потерялась, получасовому концерту может быть уделена почти половина очередного тома, и это притом, что общая хронология эпопеи охватывает порядка сорока лет. Хотя вычислять реальные даты в “Поисках утраченного времени” — дело пропащее. Мало того, что Рассказчик иногда едва ли не сознательно запутывает читателя, действительных опорных точек в хронологии романа всего две: дело Дрейфуса и Первая мировая. (Есть еще ложные маячки вроде мимоходом упомянутого приезда в Париж выдуманного “короля Феодосия”, в котором иные толкователи видят Николая II — и тогда речь идет о 1896 годе, но кто поручится, что это верный ход мысли?)
Детское воспоминание тянет за собой мысль о ренессансном шедевре, увиденном много позже, грациозная ужимка салонной львицы приводит на память фразу поэта XVI века, абстрактная музыкальная фраза превращается в мерило отчаянного любовного чувства персонажа, который ее слушает, лабрюйеровского пошиба афоризмы о ревности, родственных чувствах или там гомосексуализме рассыпаны посреди карикатур на светское общество, а гениальные пейзажные зарисовки (право слово, в литературе ХХ века таких мало) — среди описаний ходульно-неврастенических любовных переживаний. Сравнения, сравнения, сравнения — и некоторые из них, признаем это, довольно навязчивы; к примеру, как появляется на первых страницах первого тома больной, которого кризис застал в случайной гостинице, так потом тропы с привлечением медицинских симптомов возникают вплоть до самого финала с без пяти минут пародийной частотой.
И неудивительно, что есть два общеизвестных образа автора “Поисков утраченного времени”, которые для многих, что греха таить, определяют само отношение и к роману, и к необходимости его читать.
Первый: невероятный сноб и позер, рисующийся своей эрудицией ради псевдомемуарных подробностей, с пылкостью разночинца влюбленный в старую аристократию и в церемонный быт салонов Сен-Жерменского предместья, декадент, с вымученным эстетизмом лакирующий описания не менее вымученных душевных страстей.
Второй: тяжело больной, вялый, лимфатичный невротик, запершийся в обитой пробковым деревом спальне и с чуть ли не графоманской обильностью выдающий оттуда тома тягучего, мелочного, да только не очень связного повествования.
А что, разве это совсем неправда? Ведь болел же? Болел. Пробковое дерево было? Было. Вставал, понуждая себя, с постели ради изысканной великосветской тусовки? Случалось.
Вдобавок выдуманным королем Феодосием, как известно, Пруст не ограничился — в романе вымышлены не только десятки заурядных персонажей (которым заботливо придуманы родственники и предки, подчас вплоть до меровингских времен,— “у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки”,— брюзжала Ахматова).
Старинный городок Комбре, курорт Бальбек, писатель Бергот, актриса Берма, композитор Вентейль, художник Эльстир — все они страшно важны для формирования главного героя, всех он тщательно описывает и анализирует, будто речь идет о самых что ни на есть реальных сущностях, с ними ведь по ходу романа буквально сродняешься, даже Альбертина, возлюбленная, пленница и беглянка, не так живо сделана, как тот же Бергот и его писательская манера. А между тем все ненастоящие. И прустоведам, испытывающим сущие муки Тантала, остается только гадать, из каких именно всамделишных людей и явлений Пруст все это конструировал. Ну и Марсель-Рассказчик, наконец, совсем не то же самое, что Марсель Пруст, хотя в рабочих планах автор и пишет о своем протагонисте в первом лице: “Я беседую со Сваном”, “Герцогиня приглашает меня”.
Так и кочует из статьи в статью, из эссе в эссе одна и та же картина: умирающий гедонист, который все разворачивает одно за другим свои прошлые впечатления (“словно пестрые восточные шали или персидские ковры”,— добавляют некоторые: прустовская любовь к сравнениям заразительна) и как-то безвольно ими подолгу любуется, пересыпая их выдумками — неизвестно по какой прихоти.
Есть, правда, известная зарисовка-анекдот (в русскоязычной литературе пущенная, кажется, Алдановым): придя в себя за полчаса до смерти, Пруст требует рукопись — чтобы по свежим впечатлениям от собственной агонии подправить сцену смерти Бергота.
Но даже необязательно верить конкретно этому рассказу, чтобы почувствовать, насколько непохожа была работа над “Поисками утраченного времени” на пассивно-созерцательное удовольствие.
Дело даже не в болезни и не в вечном страхе не успеть, который преследовал Пруста в последние годы — и все равно он правил и правил, переделывая целые эпизоды уже даже не машинописи, а в гранках.
Это не упоение воспоминаниями, а куда более созидательный труд, хотя и каторжный, требующий, во всяком случае, невероятной настойчивости и редкого напряжения — при нелинейной структуре “Поисков”, работая над каждым эпизодом, приходилось, надо думать, держать в уме всю эпопею целиком, соотнося с общей композицией любое исправление, потому что все в ней сложно взаимосвязано, это не классическая структура старозаветного романного повествования, где все куда более дискретно. Ну где же здесь вялый, бесхребетный неврастеник? И где же эстет-сноб-декадент? Образцово-показательный декадентский роман, “Наоборот” Гюисманса, вышел меньше чем за тридцать лет до первого тома “Поисков” — но в смысле художественных возможностей сравнивать Гюисманса с Прустом — примерно то же, что сравнивать Парацельса с современной микробиологией: это уже совсем, совсем другая литература. Никакой формалистической тяги “писать красиво” или “писать сложно” у Пруста тоже нет и в помине; он стилист не больше, чем его любимый Толстой, и эти безразмерные периоды с перегруженным синтаксисом ему нужны потому, что только так — не ставя точку и умножая скобки и придаточные предложения — получается адекватнее передать тонкую механику чувств и ощущений.
Победа над временем и смертью, спасение индивидуального душевного опыта, причем не в затхлой мемуарной витрине, а целостно, в живом и чувствующем мире,— вот во что целятся все эти извивы и нюансы, не больше и не меньше.
В частностях мир Пруста демонстративно, почти вызывающе субъективен (подчас кажется, что протагонист убежден, будто вся европейская культура с ее соборами, живописцами и писателями существовала лишь для того, чтобы помочь ему разбираться путем сравнений и случайных ассоциаций с мимолетностями собственного приватного бытия), но получается так, что, в общем-то, он и тотален, и совершенно универсален. Нет такого явления, на которое невозможно посмотреть глазами Пруста, и нет такого человека, который не встретит на страницах “Поисков…” фразы, наблюдения, оборота мысли, которые бы казались скроенными словно по мерке его собственного, индивидуального опыта. Но в конце концов ткань “Поисков” оказывается подобием гигантской медленно извивающейся ленты Мебиуса. Только на последних страницах “Обретенного времени” понимаешь, к чему на самом деле вели эти сотни страниц,— но этот финал заставляет читателя мысленно вернуться назад, к первым страницам “В сторону Свана”, к коротенькой и обманчиво наивной фразе: “Давно уже я стал ложиться рано”.
Сергей Ходнев
Весь 1913 год