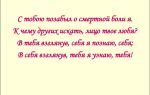Читать онлайн «Автоматические стихи», автора Поплавский Борис Юлианович

Annotation
Эта книга Бориса Поплавского (1903–1935), одного из самых ярких поэтов русского зарубежья — современники называли его «царевичем монпарнасского царства», — была подготовлена к печати самим автором, но так и не увидела света.
И вот, спустя 65 лет после создания, «Автоматические стихи» (1930–1933), о существовании которых до недавнего времени не знали даже специалисты, обнаружены в парижском архиве друзей поэта Д. и Н. Татищевых. Публикуется впервые.
http://ruslit.traumlibrary.net
Борис Юлианович Поплавский
Борис Поплавский — от футуризма к сюрреализму
Автоматические стихи
«Сонливость…»
«На аэродроме побит рекорд высоты…»
«Еще никто не знает…»
«Кто знает? Никто здесь не знает…»
«Мы пили яркие лимонады и над нами флаги кричали…»
«Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе…»
«Сорок дней снеговые дожди…»
«Рокот анемоны спит в электричестве…»
«Почему боль не проходит?…»
«О колокола…»
«Звуки неба еле слышны…»
«Беззащитный сон глубины…»
«Колёса, локоны, шестипалые руки и фотографии…»
«Это и были Лериды…»
«Высоко на крыше дома…»
«Подумайте о вращении…»
«От высокой жизни березы…»
«Луна играла серенады…»
«Кто ты? Я то что тебе непонятно…»
«О расскажи взаимное рожденье…»
«Карты счастья и карты печали…»
«Невозвратимый…»
«Был красивый полон удивленья…»
«Отрицать мир с четырех сторон…»
«Соединенье железа, стекла, зеленого облака…»
«Разорвите цепи — железо так нежно дышит…»
«Перепробуйте все комбинации…»
«Июль прошел, холодный маниак…»
«Отшельник пел под хлороформом…»
«В черном море пели водолазы…»
«Неустрашимый…»
«Пели колеса…»
«Высоко над жизнью поэта…»
«Пироскаф дымок распускал…»
«Сто миллионов сфер…»
«Вечный воздух ночной говорит о тебе…»
«Я живу на границе твоей…»
«Фиалки играли в подвале…»
«Всё было тихо, улицы молились…»
«Отпустите чудо…»
«Быть совершенно понятным…»
«Так голодный смотрит на небо…»
«Никого не решайся видеть…»
«Золотая рука часов…»
«На железной цепи ходит солнце в подвале…»
«Там ножницами щелкали вдали…»
«Случалось призракам рояли огибать…»
«Кости упавших домов…»
«Тише, души, солнце там на крыше…»
«Страшно было это рождение камня…»
«Серо-синий день погиб случайно…»
«Шум непрестанно менялся…»
«Перекрестный ветер, вечер синий и тревожный…»
«Очень страшно всё что очень тихо…»
«Тот кто лишается времени…»
«Бегите, как время проносится время…»
«Железо пения усталых…»
«В банках машины жевали железное мясо…»
«С горячих рук больного музыканта…»
«Мы позабыли утро…»
«В Африке шумели паровозы…»
«Было тихо в Сахаре молчанья…»
«Эти скитания звуков…»
«Были веки железных лиц…»
«Бледнолицые книги склонялись к железным рукам…»
«Над различными городами одинаковые звезды…»
«Говорили двое в комнате над миром…»
«Было страшно тихо в высшем мире…»
«Медленно вращаясь к времени…»
«Кто помнит сердечный припадок…»
«Призраки в сферах молний…»
«Страшно думать: мы опоздали…»
«Горит желтый зал…»
«Под тяжестью белых побед…»
«На большой глубине…»
«Никто никуда не уходит…»
«Тоска лимонного дерева…»
«Должно быть в будущей жизни…»
«Мне холодно, спокойно газ горит…»
«Музыка звучала в подземелье…»
«Солнце сжало в железных руках…»
«Трубы, трубы и трубы…»
«Волей далеких птиц…»
«То что всплывало со дна…»
«Что с Вами стало?…»
«За стеной играли флейты — там учились…»
«Конец небесного дня…»
«Солнце, очнись от света…»
«Отдаленная музыка неба…»
«Небо было привиденьем…»
«Тяжелый ангел в подземелье спал…»
«Никто не знает когда…»
«Улицы зажгли свои огни…»
«Улицы мокры, огни зажглись в тумане…»
«Ночь стояла на белой дороге…»
«Никто не мог отрешиться…»
«Кто дошел до середины…»
«Солнце долго ходило. Устало…»
«Голос в страшном отдалении…»
«Скольженье белых дней, асфальт и мокрый снег…»
«Всё было тихо, голос драгоценный…»
«Молча камень порождает воду…»
«На белой поверхности неба…»
«Когда устает привиденье…»
«Золото качается на башне…»
«Был в закате колокол стеклянный…»
«Статуя читает книгу, спит младенец…»
«Мерно падали ноты из белой стены…»
«Тихо книги в башне говорили…»
«Книги говорили:…»
«Жизнь отражалась в золотом шару…»
«Опять на востоке…»
«Комнаты пустые полные стекла…»
«Руки колесного города…»
«Тихо воду качала вечность…»
«Вечность розовых стекол…»
«Солнце спокойно…»
«Падает солнце в холодную воду…»
«В холодный день высоко птицы пели…»
«Золотая игла занозы…»
«На железной цепи у плотины…»
«Маленькая жизнь играла на рояле…»
«Электричество горит, читают книги…»
«Всё что будет завтра:…»
«Волны дождя покрывают скелеты деревьев…»
«Довольно фабрика шумела колесом…»
«Золотые дали. Спит туман…»
«Шум аэростата Звон осенних трав…»
«Автоматически безумно дух поет…»
«Белый снег разлуки…»
«То что меня касалось было на солнце…»
«Солнечный год был равен лунному году…»
«Так рождается страх…»
«Рвусь к железным законам…»
«Тише, горести. Смиряйтесь, звуки снега…»
«В сумраке дневной души…»
«Берег далек, морская гладь…»
«Звезды, розы, облака…»
«Братья, братья, будем плакать вместе…»
«Нежные весы…»
«Царь святых привидений и фей…»
«Время горит…»
«Не верьте звукам звезды Нуримая…»
«Руки газеты…»
«Не мучайся, читай в пыли газеты…»
«Падаю на солнце…»
«Пой как умеешь…»
«Золото покоя…»
«Умершим легко — они не знают…»
«Сумерки речи…»
«В огромной кожаной книге…»
«Мирозданье в бокале алхимика…»
«Жарко, судьба на закате…»
«Луны и солнца звуки золотые…»
«Звуки ночи, усталость…»
«Стекло лазури, мания величья…»
«Встреча в палате больничного запаха…»
«Стекловидные деревья рассвета…»
«Философия Шеллинга упразднила газету и библию…»
«Стекло лазури, мания верблюдов…»
«Синюю воду луны качали бессмертные души…»
«Звезды читали судьбу по гробам механических птиц…»
«Небо арктических цилиндров было наклонено…»
«Ноги судьбы были сделаны из золота…»
«Стеклянный шар, магический кристалл…»
«Вечером на дне замковых озер зажигаются…»
«Стеклянный бег кристалла…»
«Белое небо, день жарок и страшен…»
«Золотая пыль дождя и вечер…»
«Мчится вечер, лето на исходе…»
«Шар золотой святой пустой…»
«Призрак родился, призрак умрет…»
«Солнце не знает…»
«Только бы всё позабыть…»
«Слабость сильных — это откровенье…»
«Глубокое время текло до заката…»
«Голубым озерам на вершине…»
«Азбука скучает в словарях…»
«Голос веретен был тонок…»
«Верить или не верить…»
«Песню о чуде…»
«Камень шепнув погрузился…»
«Не плачь, пустынник…»
«Облака устали пролетать…»
«Кто вы, гордые духи?…»
Борис Юлианович Поплавский
Автоматические стихи
Борис Поплавский — от футуризма к сюрреализму
[текст отсутствует]
«Сонливость…»
Сонливость
Путешественник спускается к центру земли
Тихо уходят дороги на запад
Солнце
Мы научились разным вещам.
Мы были на полюсе
Где лед похож на логические возвраты
А вода глубока
Как пространство
Всё оставлено
Только вдали память говорит с Богом
«На аэродроме побит рекорд высоты…»
На аэродроме побит рекорд высоты
Воздух полон радостью и ложью
Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок
Опасность
А в тени колокольни бродяга играет на флейте
Тихо-тихо
Еле слышно
…Он разгадал
Крестословицу о славе креста
Он свободен
Источник: https://knigogid.ru/books/197934-avtomaticheskie-stihi/toread
Борис Поплавский — «Дистопия»

Там, где продукт творчества уподобляется сну, экстатическому состоянию, эйфории или дисфории, экзальтации, трансу, наркотическому опьянению.
Там, где восприятие искусства становится мистическим опытом, а слова выстраиваются в сакральную песнь. Там, где каждое стихотворение – таинство.
Там расположен мир Бориса Поплавского: изгнанника, первого русского поэта-сюрреалиста, бродяги и наркомана, человека, не нашедшего для себя места нигде в этом мире, кроме мира поэзии.
Время Поплавского – это особый период трансформации искусства из продукта репрезентации окружающего мира в продукт репрезентации человеческой психики, её тайных влечений и запретов, её специфического восприятия действительности.
Время Поплавского – это время обострённой сублимации, вызванной общечеловеческим кризисом потребления, временем, где дилемма потреблять сверх жизненно необходимого или отрицать буржуазные ценности приводила одних к моральному обеднению, а других к поискам нового смысла в глубинах собственной психики.
Большую часть активной творческой жизни Борис Поплавский находился в Париже (1919 – 1935 гг.
), где вёл достаточно бедную жизнь по убеждениям, был завсегдатаем злачных питейных заведений, употреблял наркотики, но при этом не забывал о поэзии и регулярно печатался в литературных журналах русской эмиграции («Числа», «Воля России», «Современные записки», «Звено»), посещал литературные собрания объединений поэтов («Зелёная лампа», «Кочевье»).
Монпарнас был его духовным гетто. Там он пропадал в кабаках, глотая этиловую отраву во имя отрицания привычного уклада жизни, имел знакомства с маргинальной прослойкой парижан. Вероятно, посещал бордели.
Бродил по вымощенным тротуарам, покачиваясь от опьянения.
И в этом мире упадка, в этом не кончающемся забытье, в этом разлагающемся обществе Поплавский сделал свой тёмный, болезненный, до боли близкий безумцу поэтический стиль на стыке сна и бодрствования, правды и вымысла, наслаждения и страдания.
Специфика стихосложения Поплавского состояла в особом неповторимом использовании средств выразительности, которые формировались под влиянием сюрреализма, в первую очередь, творчества Артюра Рембо, и русского символизма, в первую очередь, Александра Блока.
Его стихотворения, погружающие читателя в психоделический мир исключительных переживаний, порой теряли связь с языком как системой символов, превращая текст в то ли в бессмыслицу, то ли в мистическую обособившуюся от привычного языка систему, обращающуюся напрямую к бессознательному. Каждое стихотворение Бориса Юлиановича – это будто отрывок из религиозного текста, молитва тёмным богам, гностическое восприятие земного мира, где ключом к правильному пониманию творчества является абстрагирование, уход от конкретного восприятия вещей и концентрация на чувственных образах.
Не смотря на изобилие троп, поэзия Поплавского в техническом смысле довольно проста: большая часть стихотворений написана катренами, а рифмы рождаются из простых слов. Но эта простота с запасом компенсируется образами и тематикой творчества.
Стоит только посмотреть перечень его стихотворений («Сентиментальная демонология», «Покушение с негодными средствами», «Весна в Аду», «Чёрный заяц»), как ум захватывает непреодолимое желание заглянуть за эти ярлыки, раскрыть эти потаённые чемоданчики или мешочки тьмы, где эстетика мрачного предстаёт во всей красе.
Борис Поплавский активно интересовался философией и теологией, под влиянием которых и рождались его темы для стихотворений, среди которых центральное место занимала тема смерти, точнее – наслаждение умиранием, некий мазохистский фатализм, связанный с темой любви, а также описательной тематикой, в которой сложно провести границу между реальностью и иллюзией. Он был первым поэтом, поместившим смерть в пятистопный хорей. Именно поэтому литературовед М. Л. Гаспаров назвал Поплавского «мастером хореической смерти».
Это небольшое стихотворение хорошо демонстрирует специфику поэзии Поплавского. Поэзия Поплавского – это тоска по тому времени, где человек не бодрствует.
Где он спит и ему снятся болезненные сны, где он находится под воздействием наркотического средства или психотропного вещества, где он сошёл с ума и бредит, где он ещё не родился или уже умер.
Поэзия Поплавского – это сознательная попытка порвать с реальностью, отвергнуть материальный мир, уйти куда угодно, но не остаться здесь.
При жизни у Бориса Юлиановича был издан всего один поэтический сборник под названием «Флаги» в 1931 году. Его романы «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» при жизни издать не удалось. Посмертно были изданы сборники стихотворений «Снежный час», «Автоматические стихи», «Дирижабль неизвестного направления».
Смерть Бориса Поплавского наступила в 1935 году от действия наркотического средства, которое он принял вместе со случайным знакомым по фамилии Ярхо. Естественно рассматривались версии с убийством и самоубийством, но это уже не столь важно. Чернь Монпарнаса забрала его потрёпанное ядами тело.
Смерть наступила, и тот, кто в своём творчестве наслаждался умиранием, насладился им в материальном мире, который презирал и которого так сторонился. Поэт ушёл туда, куда хотел уйти. Он ушёл в мир отсутствия сознания, в мир вечного сна, ушёл в небытие, тоска по которому его никак не оставляла.
Источник: https://dystopia.me/boris-poplavsky/
Борис Поплавский | Стихотворение дня

6 июня родился Борис Юлианович Поплавский (1903 — 1935).
1922
* * *
Стояли мы, как в сажени дрова, Готовые сгореть в огне печали. Мы высохли и вновь сыреть почали:
То были наши старые права.
Была ты, осень, медля, не права. Нам небеса сияньем отвечали, Как в лета безыскусственном начале,
Когда растет бездумье, как трава.
Но медленно отверстие печи, Являя огневые кирпичи,
Пред нами отворилось и закрылось.
Раздался голос: «Топливо мечи!» К нам руки протянулись, как мечи,
Мы прокляли тогда свою бескрылость.
* * *
Был страшный холод, трескались деревья. Во ртути сердце перестало биться. Луна стояла на краю деревни,
Лучом пытаясь отогреть темницы.
Все было дико, фабрики стояли, Трамваи шли, обледенев до мачты. Лишь вдалеке, на страшном расстоянии,
Вздыхал экспресс у черной водокачки.
Все было мне знакомо в черном доме. Изобретатели трудились у воронок, И спал одетый, в неземной истоме,
В гусарском кителе больной орленок.
* * *
За стеною жизни ходит осень И поет с закрытыми глазами. Посещают сад слепые осы,
Провалилось лето на экзамене.
Все проходит, улыбаясь мило, Оставаться жить легко и страшно. Осень в небо руки заломила
И поет на золоченой башне.
Размышляют трубы в час вечерний, Возникают звезды, снятся годы, А святой монах звонит к вечерне,
Медленно летят удары в горы.
Отдыхает жизнь в мирах осенних В синеве морей, небес в зените Спит она под теплой хвойной сенью
У подножья замков из гранита.
А над ними в золотой пустыне Кажется бескраен синий путь. Тихо реют листья золотые
К каменному ангелу на грудь.
* * *
А. Минчину
Пылал закат над сумасшедшим домом, Там на деревьях спали души нищих, За солнцем ночи, тлением влекомы,
Мы шли вослед, ища свое жилище.
Была судьба, как белый дом отвесный, Вся заперта, и стража у дверей, Где страшным голосом на ветке лист древесный
Кричал о близкой гибели своей.
Была зима во мне и я в зиме. Кто может спорить с этим морем алым, Когда душа повесилась в тюрьме
И черный мир родился над вокзалом.
А под землей играл оркестр смертей, Высовывались звуки из отдушин, Там вверх ногами на балу чертей
Без остановки танцевали души.
Цветы бежали вниз по коридорам, Их ждал огонь, за ними гнался свет. Но вздох шагов казался птичьим вздором.
Все засыпали. Сзади крался снег.
Он город затоплял зарею алой И пел прекрасно на трубе зимы, И был неслышен страшный крик фиалок,
Которым вдруг являлся черный мир.
1931
Источник: https://poem-of-day.rifmovnik.ru/2018/06/07/boris-poplavskij/
Читать

Неизвестные поэмы, стихотворения и рисунки
Заговоришь о Поплавском с «ценителем» филологической выучки, интонация будет задумчивой, через минуту уважительно закивают. Теперь этих кивков этих, по счастью, трудно избежать.
Еще через минуту беседа неумолимо сойдет в тартар привычных умствований: «талантлив» (как вариант: «мог бы писать сильнее — не дожил»), «неровен», «одно время был резким футуристом».
Два-три словца о религиозных исканиях, наркотиках, странной смерти. Разговор закончен. Можно сказать, удался.
Для «умеренных» Поплавский — одаренный выскочка, немножечко выродок, что-то вроде эмигрантской версии Маяковского. Довольно удачный клон, с небольшими погрешностями. Подкармливали его чем-то первобытным, чудил по молодости, но вот основа — классическая: Блок, Бодлер, Малларме, французский лицей.
Потому и был одобрен поэтическим генералитетом, потому и выдали индульгенцию романтическим передержкам. У Маяковского, положим, чуть по-другому: Бурлюк натаскивал «мота» как мог, подсовывал благо-нагое безобразие стихов родное — «Книгу масок», к примеру. Худо-бедно, соорудили основу и здесь: даже Розанов оказался близок «поэтиному сердцу», как рассказал нам Виктор Ховин.
А Поплавский хотелписать как Розанов, да не вышло. Рассказал об этом Бердяев.
(Любопытно, сколько еще статей на тему «Поплавский — Маяковский» родится после явления «Поэмы о Революции»?)
Очень многие «серьезные» разговоры на поверку оказываются вредоносной болтовней, к тому же полной обескураживающих умолчаний. Печально, что и апологеты (а врагов, повторимся, у Поплавского все меньше) наговорили столько же, сколько и недоумевающие.
Натужное понимание очевидных процессов, вне которых феномен Поплавского немыслим, вне которых такого поэта просто не было бы, можно оправдать лишь удивительной нечувствительностью и леностью.
Сегодня, спустя семьдесят лет после смерти «царевича», опять приходится напоминать о дадаизме и футуризме, которые, к слову, «царевич» пережил.
Понять, почему из творчества Поплавского вымарывают «резкий футуризм», очень легко. Над русской литературой упорно витает дух мессианства, время от времени отдающий местечковостью; она по-прежнему сельский учитель.
Антиэстетизм представляется каким-то иманнентным русским свойством, «дикостью», которую следует изжить, выкорчевать или, на худой конец, занавесить. Крученых до недавнего времени почитался шарлатаном: так было проще.
Искать у Поплавского, например, параллели с Достоевским или Толстым — это привычный, приличный путь: поэта опять выводят на «большую дорогу человеков» и тем самым едва ли не оказывают честь бродяге minor’у, впускают его в «настоящую литературу».
Помилуйте, да ведь у нас есть «принсипы». О том же, что Бретон писал о Достоевском, лучше вовсе не знать, это умножает печали.
Иные судят жарче. Нам довелось немало спорить о «раннем» и «позднем» Поплавском с теми, кто предпочитает именно раннего. Все, что потом, — недостаточно лихо.
Да и не с «хрустальной дорожки» Поплавский ушел — уйти хотел от вечного голода: «нищета заговорила». Эти опять ищут основу, но только ультра-модернистскую. «Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви», — вот счастье, вот права.
Вновь о расширенных зрачках, темных очках (теперь они служат пропуском в дада), заблуждениях — не в начале, в конце.
Может быть, и вправду — искать следует именно здесь? Уж какое там пачкунство?! — шестнадцатилетний мальчишка «в козьем полушубке» создает «Истерику истерик» — уникальный опыт автоматического письма, футуристической и «кубоимажионистической» ницшеаны. А в подкладке затаился страдалец-Исидор. Автор одарен ровно настолько, чтобы обеззубеть годам к тридцати.
Взгляд как будто отрадный. Оригинален, свеж он потому, что возвращение ранних стихов Поплавского началось недавно; разглядеть и понять их непросто. И очень подкупает горячность «рассмотревших», ориентированных, судя по всему, на фигуру Зданевича, который тоже возвращался и понимался мучительно трудно.
Цитировать слова «жили мы стихами Поплавского» вошло в привычку давно, но наконец-то приходит понимание, какими именностихами Поплавского Зданевич «жил». Да уж самыми наидичайшими, будьте уверены. Цитируя, мало кто давал себе труда вспомнить об «анальной эротике».
Да ведь Поплавский еще и заумник, вот что надо будет иметь в виду.
И мы уже готовы согласиться.
Увы, точка зрения эта тенденциозна в той же степени, что и первая, а потому нестерпима для нас.
Впрочем, должно пройти еще какое-то время, прежде чем в работах «доцентов» линия эта разовьется с достаточной силой, и о Поплавском заговорят как о «русском сокровище-дадаисте» во весь голос, рождая обессмысливающие стереотипы и каноны. А может, и не разовьется, только иные слависты будут прилежно отыскивать необходимые параллели.
Конечно-конечно, Поплавский — русский дадаист, запомним это хорошенько. Что заставляет его быть «могильщиком»? Да то же, что и Балля. Он знает, что мир систем рухнул, что эпоха, требующая оплаты наличными, начала по бросовым ценам распродажу развенчанных философий.Он очень хорошо это знает, и параллели с Толстым следует поискать (и) здесь. Смешно?
Слово «русский» не менее важно, чем слово «дадаист».
«Как будто русским или негром можно перестать быть», — говорит Поплавский и, законспектировав Гегеля, расстегивает ширинку — отлить неподалеку от Лувра бок о бок с Горгуловым.
Такова проклятая история литературы, никуда не деться: пришедшие русские хамы оскверняют заграницы, в отместку же краваны изводят побеги русской духовности. Или наоборот.
Нити натянуты, до сюрреализма рукой подать. Не успевает Зданевич подумать о русском «сюр-дада», как Поплавский перекидывается. С легкостью и бесстыдством ошеломляющими. Бесстыдство отягчено автоматическим письмом, освоенным еще в 1919-м, и лицеем Филиппа Неррийского, способствовавшим знакомству с французскими символистами. Которые, оказывается, тоже сюрреалисты.
Эту шалость прощают охотно, ведь машинка Бретона — точка схождения «классического» и «авангардного». Главное — соединить несоединимое (высекает искру). Здесь могут примириться и «доценты» с «разглядевшими».
Бретон придумал нечто, многими воспринятое (и воспринимаемое до сих пор) как большее, чем дадаизм, включающее его в себя. Если дада настаивал на апофатических формах, антихудожественной художественности и отмене иерархий, то сюрреализм — почти что новый эстетизм.
Плюс комбинаторика. Ничем не ограничиваемая образность — так ведь Поплавский художник.
Итак, сопрягаем два слова — «русский» и «сюрреалист» — и чувствуем сладость сверхреальности (не спугнуть бы!). Еще раз, смелее: русский сюрреалист, настоящий. И при этом не Эренбург. Наверняка, это для нашей радости он прошел сквозь ад дадаизма. Для нашей гордости.
Ведь писал же Поплавский автоматические стихи.
Приделал же он солдату крылья.
А еще домохозяйки очень любят Дали.
Но «русский» с «сюрреалистом» разлетаются в разные стороны. В рецепте Поплавского («одним перехамил, другим перекланялся») важно именно «пере», а не что-то другое. Из амбивалентности сюра он сразу же делает еще один шаг, последний.
Для Зданевича игры монпарнасцев — «белогвардейская халтура», а для Ходасевича футуризм — это «трупный яд». Поплавский отныне разорван надвое — окончательное дои окончательное после. Лотреамон, Нерваль и Лафорг завели его слишком далеко — к началу.
И на двух катафалках везут / Половины неравные тела.
Он уже не бегает в Наркомпрос. Он сам теперь может «плевать справа». Словно не было никакой «резкости» (и некоторые хотят верить этому до сих пор), не было даже Зданевича. Поплавский являет чудеса беспринципности. Опять дадаист? Мошенник.
Источник: https://www.litmir.me/br/?b=161935&p=1
Борис Поплавский – Автоматические стихи
 Здесь можно скачать бесплатно “Борис Поплавский – Автоматические стихи” в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Поэзия, издательство Согласие, год 1999.
Здесь можно скачать бесплатно “Борис Поплавский – Автоматические стихи” в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Поэзия, издательство Согласие, год 1999.
Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.
На В Твиттере В Instagram В Одноклассниках Мы
Описание и краткое содержание “Автоматические стихи” читать бесплатно онлайн.
Эта книга Бориса Поплавского (1903–1935), одного из самых ярких поэтов русского зарубежья — современники называли его «царевичем монпарнасского царства», — была подготовлена к печати самим автором, но так и не увидела света.
И вот, спустя 65 лет после создания, «Автоматические стихи» (1930–1933), о существовании которых до недавнего времени не знали даже специалисты, обнаружены в парижском архиве друзей поэта Д. и Н. Татищевых. Публикуется впервые.http://ruslit.
traumlibrary.net
Борис Юлианович Поплавский
Автоматические стихи
Борис Поплавский — от футуризма к сюрреализму
[текст отсутствует]
Сонливость Путешественник спускается к центру земли Тихо уходят дороги на запад Солнце Мы научились разным вещам. Мы были на полюсе Где лед похож на логические возвраты А вода глубока Как пространство Всё оставлено Только вдали память говорит с Богом
«На аэродроме побит рекорд высоты…»
На аэродроме побит рекорд высоты Воздух полон радостью и ложью Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок Опасность А в тени колокольни бродяга играет на флейте Тихо-тихо Еле слышно …Он разгадал Крестословицу о славе креста Он свободен
Еще никто не знает Еще рано Сладко спят грядущие дни Положив огромные головы На большие красивые руки Звезды зовут их Но они не слышат Далеко внизу загорается газ Дождик прошел, блестит мостовая Христос в ботинках едет в трамвае
«Кто знает? Никто здесь не знает…»
Кто знает? Никто здесь не знает. Кто слышит? Никто там не слышит. Ничего не бывает Все забывают Сладко зевают Медленно дышат Тихо, как рак задом во мрак, Пятится счастье в звездных мирах Солнце тоскует Блестит весна Мы не проснемся навек от сна
«Мы пили яркие лимонады и над нами флаги кричали…»
Мы пили яркие лимонады и над нами флаги кричали И бранились морские птицы Корабли наклонялись к полюсу Полное солнце спало в феерическом театре В пыли декораций где огромные замки наклонялись Под неправдоподобными углами В пустом и черном зале сидело старое счастье в рваных ботинках И курило огромные дешевые папиросы Созерцая ядовитый огонь заката В пыли кулис А наверху плыли дирижабли Люди кричали и пропадали Дали молчали и появлялись И уже шел дождь Изнутри вовне, из прошлого в будущее Унося в своей серой и мягкой руке Последнюю доблесть моряков
«Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе…»
Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе. Внизу, под облаками, было море, и под ним на страшной глубине — еще море, еще и еще море, и наконец подо всем этим — земля, где дымили небоскребы и на бульварах духовые оркестры тихо и отдаленно играли.
Огромные крепости показывались из облаков. Башни, до неузнаваемости измененные ракурсом, наклонялись куда-то вовнутрь, и там еще — на такой высоте — проходили дороги. Куда они вели? Узнать это казалось совершенно невозможным. И снова всё изменилось.
Теперь мы были в Голландии.
Над замерзшим каналом на почти черном небе летел снег, а в порту среди черного качания волн уходил гигантский колесный пароход, где худые и старые люди в цилиндрах пристально рассматривали странные машины высокого роста, на циферблатах которых было написано — Полюс.
«Сорок дней снеговые дожди…»
Сорок дней снеговые дожди Низверглись, вздыхая, над нами Но не плавает со слонами Дом надснежный — спасенья не жди
Днесь покрыты все горы где тропы Непрестанным блестящим потопом
Спят сыпучие воды зимы Раздаются под телом безмолвно В снежном море утопленник-мир Неподвижно плывет и условно.
«Рокот анемоны спит в электричестве…»
Рокот анемоны спит в электричестве Золото заката возвратилось в черную реку Стало больно от черного снега В тот год умерли медные змеи И верблюды отправились в пустыню за горной водой Тихо по стенам всходила вода Карнизы смотрели в океанские дали Кошки спали на самом краю небытия И кто-то говорил во сне Странно приподымая руку О самом страшном — О измене
«Почему боль не проходит?…»
Почему боль не проходит? Потому что проходит вовнутрь. Где спит статуя с электрическим черным лицом На страже анемоны и солнечных рыб Там боли нечего делать
О колокола О сирены сирен в сиренях О рассветы что лили из лилии Самое простое — это умереть Самое трудное — это стерпеть За открытою дверью снова улица в сквере Из комнаты в комнату вхожу И сон за мной Мое пальто там в лунной тьме сутулится Я падаю, оно за мной О солнце Как передать позор отказа плакать И в синеве подземной отцветать В окно мое устало солнце падать Отказ молчать Колокола. Перу уснуть пора Сирени рвались в вечность, спят давно Со странною улыбкой мертвых дев О лев Смежи лучом виденья королев
Звуки неба еле слышны Глубоки снега и степи Кто там ходит, спит, не дышит? Розы ветра облетели Тишина лежит в постели Глубоко больна Снится ей иное время Пишет черт стихотворенье У ее окна Спи, младенец жизни новой, Слишком рано и темно Спит зари огонь багровый Глубока дневная ночь
«Беззащитный сон глубины…»
Беззащитный сон глубины Отразился в руках судьбы Бледно-желтою нитью зари Перевязаны руки царей Всё готово на небесах Ждите, тише, он настает Тот внезапный трепет в часах Тот ошибочный странный звон
«Колёса, локоны, шестипалые руки и фотографии…»
Колёса, локоны, шестипалые руки и фотографии Были основанием, но лодка не тонула Тысяча ног и нот Не могли ей помочь уснуть Потому что полночь настала И луна поникла устало Утро будет? — кто-то спросил Нет — ответил кто-то без сил Нет возмездия, нет награждения Свято всё что касается тления
Это и были Лериды Высокие как окна соборов Далекие как солнце иных миров Но зачем они опустились Никто никогда не понял Почему они загрустили Кого увидели там И огромные очи свои обратили В обратное высотам… И сразу стало тише и холоднее Глубже уснули на снежном рассвете Страшные черные лица детей А рассвет был ложен, легок и пуст Как сгоревший серый вчерашний куст
Высоко на крыше дома Стояла Статуя Счастья Наблюдая рождение жизни Из желтого моря зари Всё казалось ей: время настанет Растворятся, раскроются бездны Голоса поцелуют землю
Подумайте о вращении Вращающийся перестает понимать Он наклоняется и не падает Он часто висит кверх ногами И в одном глазу у него Запад А в другом гора Нуримая Уходящая на Крайний Север В сером дыме своих вулканов И какие-то прошлые жизни Абсолютно лишенные счастья О которых он вспоминает Вспоминая не понимает Только черной рукою гладит Как волна — острова и скалы Где огромные птицы молча На грядущем задом сидят Размышляя сидя на камне И еще голубой колокольчик Подле моря звенит, звенит
«От высокой жизни березы…»
Отзывы читателей о книге “Автоматические стихи”, комментарии и мнения людей о произведении.
Источник: https://www.libfox.ru/296121-boris-poplavskiy-avtomaticheskie-stihi.html
Поплавский Борис Юлианович – Автоматические стихи

Борис Поплавский — от футуризма к сюрреализму
[текст отсутствует]
Сонливость Путешественник спускается к центру земли Тихо уходят дороги на запад Солнце Мы научились разным вещам. Мы были на полюсе Где лед похож на логические возвраты А вода глубока Как пространство Всё оставлено Только вдали память говорит с Богом
«На аэродроме побит рекорд высоты…»
На аэродроме побит рекорд высоты Воздух полон радостью и ложью Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок Опасность А в тени колокольни бродяга играет на флейте Тихо-тихо Еле слышно …Он разгадал Крестословицу о славе креста Он свободен Еще никто не знает Еще рано Сладко спят грядущие дни Положив огромные головы На большие красивые руки Звезды зовут их Но они не слышат Далеко внизу загорается газ Дождик прошел, блестит мостовая Христос в ботинках едет в трамвае
«Кто знает? Никто здесь не знает…»
Кто знает? Никто здесь не знает. Кто слышит? Никто там не слышит. Ничего не бывает Все забывают Сладко зевают Медленно дышат Тихо, как рак задом во мрак, Пятится счастье в звездных мирах Солнце тоскует Блестит весна Мы не проснемся навек от сна
«Мы пили яркие лимонады и над нами флаги кричали…»
Мы пили яркие лимонады и над нами флаги кричали И бранились морские птицы Корабли наклонялись к полюсу Полное солнце спало в феерическом театре В пыли декораций где огромные замки наклонялись Под неправдоподобными углами В пустом и черном зале сидело старое счастье в рваных ботинках И курило огромные дешевые папиросы Созерцая ядовитый огонь заката В пыли кулис А наверху плыли дирижабли Люди кричали и пропадали Дали молчали и появлялись И уже шел дождь Изнутри вовне, из прошлого в будущее Унося в своей серой и мягкой руке Последнюю доблесть моряков
«Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе…»
Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе. Внизу, под облаками, было море, и под ним на страшной глубине — еще море, еще и еще море, и наконец подо всем этим — земля, где дымили небоскребы и на бульварах духовые оркестры тихо и отдаленно играли.
Огромные крепости показывались из облаков. Башни, до неузнаваемости измененные ракурсом, наклонялись куда-то вовнутрь, и там еще — на такой высоте — проходили дороги. Куда они вели? Узнать это казалось совершенно невозможным. И снова всё изменилось. Теперь мы были в Голландии.
Над замерзшим каналом на почти черном небе летел снег, а в порту среди черного качания волн уходил гигантский колесный пароход, где худые и старые люди в цилиндрах пристально рассматривали странные машины высокого роста, на циферблатах которых было написано — Полюс.
«Сорок дней снеговые дожди…»
Сорок дней снеговые дожди Низверглись, вздыхая, над нами Но не плавает со слонами Дом надснежный — спасенья не жди Днесь покрыты все горы где тропы Непрестанным блестящим потопом Спят сыпучие воды зимы Раздаются под телом безмолвно В снежном море утопленник-мир Неподвижно плывет и условно.
«Рокот анемоны спит в электричестве…»
Рокот анемоны спит в электричестве Золото заката возвратилось в черную реку Стало больно от черного снега В тот год умерли медные змеи И верблюды отправились в пустыню за горной водой Тихо по стенам всходила вода Карнизы смотрели в океанские дали Кошки спали на самом краю небытия И кто-то говорил во сне Странно приподымая руку О самом страшном — О измене
«Почему боль не проходит?…»
Почему боль не проходит? Потому что проходит вовнутрь.
Где спит статуя с электрическим черным лицом На страже анемоны и солнечных рыб Там боли нечего делать О колокола О сирены сирен в сиренях О рассветы что лили из лилии Самое простое — это умереть Самое трудное — это стерпеть За открытою дверью снова улица в сквере Из комнаты в комнату вхожу И сон за мной Мое пальто там в лунной тьме сутулится Я падаю, оно за мной О солнце Как передать позор отказа плакать И в синеве подземной отцветать В окно мое устало солнце падать Отказ молчать Колокола. Перу уснуть пора Сирени рвались в вечность, спят давно Со странною улыбкой мертвых дев О лев Смежи лучом виденья королев Звуки неба еле слышны Глубоки снега и степи Кто там ходит, спит, не дышит? Розы ветра облетели Тишина лежит в постели Глубоко больна Снится ей иное время Пишет черт стихотворенье У ее окна Спи, младенец жизни новой, Слишком рано и темно Спит зари огонь багровый Глубока дневная ночь
«Беззащитный сон глубины…»
Беззащитный сон глубины Отразился в руках судьбы Бледно-желтою нитью зари Перевязаны руки царей Всё готово на небесах Ждите, тише, он настает Тот внезапный трепет в часах Тот ошибочный странный звон
Источник: https://fanread.ru/book/7305614/?page=1
Доклады

О согласии погибающего с духом музыки1
Когда афиняне отложили казнь Сократа до прибытия праздничного корабля с острова Мелоса, ему, заключенному в тюрьму, Демон2 советовал заняться музыкой. Что же сделало это чудовище: оно занялось переложением на стихи басен Эзопа.3 То есть вежливо отклонило предложение демона и осталось верным своему близкому топорному, ежедневному.
По существу музыка есть как бы открытое море, и демон приглашал его отправиться в открытое море. Но чудовище предпочло остаться на берегу среди верного, знакомого, давно известного. Почему? Потому что оно, кажется нам, было уже в согласии с неким старшим искусством, видовыми воплощениями которого являются музыка звуков, поэзия, живопись и остальные искусства.
И которое мы только приблизительно называем Духом музыки4. Что есть этот дух музыки для нас: некое чистое поступательное движение силы изнутри, развивающей все. Силы чистого становления всего, силы чистого времени, понимаемого не извне, как счет и мера движения, а изнутри, как чистый напор развития.
Мы дальше будем продолжать метафорически говорить об этой силе в терминах музыки, но чисто метафорически, отчасти потому, что понятия музыки приспособлялись для чего-то сплошного и поступательного, как этот дух музыки.
Сократ был уже в согласии с этим духом всех искусств и поэтому, приготовляясь к смерти, мог отказаться заниматься тою младшею музыкой, которую советовал ему заботливый демон. Мы понимаем согласие с духом музыки ранее всего как принятие собственной смерти.
Мы назвали духом музыки нечто, что Шопенгауэр называл мировой волей.
Проблема праведности заключается для нас в согласии или в несогласии с этим духом музыки, от которого зависит внутренняя удача или неудача человека, достижение или недостижение им внутреннего счастья, и, косвенно высшим посвящением или непосвящением во внутреннюю сущность искусств и, в частности, достижение или недостижение известной сладостной напевности, без которой нет настоящих стихов. То моцартовское начало,5 которое сразу посвящает человека в поэты, в художники и в праведники в религиозном смысле этого слова.
Основная истина о мире есть ощущение его как не чего-то каменного, а чего-то движущегося, становящегося и меняющегося наподобие не статуи или вещи, а разноцветной жидкости, переливающейся и уплывающей.
С нее началась Философия, со слов темного Гераклита6 о том, что все течет, из определения Фалесом7 родового начала как начала влажного.
Но вот существуют времена, когда это обычно до незаметности плавное и ровное течение вдруг стремительно ускоряется. Душа человека, быстро привыкающая и засыпающая в размерном движении, очень остро ощущает периоды у перемены скорости, ускорение или замедление ритма движения.
Такие, например, времена есть весна в природе, революция в политике. Что острее постигает душа весной: то, что все движется, все меняется, что все изменится, что она наравне со всем остальным изменится и погибнет, вот почему розы пахнут смертью8 и весна тайно поет о ней.
И вот пред весной выясняется душа человека; тогда или она смертельно тоскует и плачет или же она безнадежно, но сладостно грустит, сладостно и печально радуется и со слезами на глазах благословляет мир.
Почему? Потому что если жизнь есть огромная и смертоносная симфония, каждая человеческая душа есть отдельный такт в ней, некая маленькая музыкальная фраза, о которой так много говорил Пруст,9 для которой существуют только две альтернативы: согласиться с симфонией, то есть согласиться вовремя временно прозвучать, отсиять и замолкнуть, как всякий такт, усилив и разнообразив симфонию.
Или же не соглашаться с необходимостью замолкнуть, хотеть вечно продолжаться, вечно усиливаясь звучать, никогда не замолкать, никогда не умирать.
То есть или сила самоохранения берет в ней верх, и она тоскует и ужасается и проклинает, ибо она все равно будет побеждена и убита старшей музыкой, или же сила не самоохранения, а саморасточения, самораздарения побеждает в ней, и она соглашается прекрасно воззвать, возгореться, отпеть, отшуметь и затихнуть, погаснуть и исчезнуть за углом, как праздничная процессия с оркестром и флагами, проходящая через мост.
Но это согласие всегда актуально и героично, оно всегда некий тишайший мистический подвиг против первичного животного голоса в душе ненавидящего и боящегося богов.
«Мир, все, что гармонирует с Тобой, пристало мне и то, что для тебя заблаговременно, и для меня не наступает слишком рано или слишком поздно», – поет чахоточный Геракл Аврелий Антонин.10
Этот подвиг труден потому, что он акт веры или, вернее, героического доверия Богам. Оправдать золотую машину мира, простить ей свою будущую смерть может или ангел, который видит Бога, или герой, который дает творению взаймы от своего душевного золота.
Ты странен и кажешься преступным, говорит он миру. Но я верю тебе, что ты хорош и праведен. То есть, хочу я сказать, боги вполне отчетливо не могут перед человеком отчитаться в праведности мира, и им следует героически, если кто на это способен, верить на слово.
Ну ничего, ничего, говорит такой человек богам, у вас не все ясно, но я вам верю. И тем трогательнее и прекраснее будет он, если боги его надуют, если этот поступок будет по существу ошибочен и силы природы лгут, добра в них нет. Ибо следует не только простить богам, но и полюбить их.
Значит тогда человек-цветок был выше дерева природы, его вырастившей.
Она хотела его обмануть, а он хотел ее оправдать и от своего золота давал богам-обманщикам. Стоик Гингер11 поет:
Ты доволен сегодняшним светом
Я доволен, не плачь обо мне,
Жаром солнечным, солнечным светом
Я доволен, не плачь обо мне
или:
Долой мои воспоминанья
Тебя судьба, одну тебя
Люблю, которой нет названья
Которую умру любя.12
Знак согласия с духом музыки в человеке есть некая сладостная безнадежность и в нем спокойный и добрый тон.
Я теперь уж не такой не прежний
Недоступный гордый чистый злой
Я смотрю светлей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.13
И голос был сладок и чуть был тонок
И только высоко у царских врат
Причастный к тайнам плакал ребенок
О том, что никто не прийдет назад.14
Кажется нам, что дух музыки на стороне всего погибающего, то есть, вернее, всего согласившегося погибнуть. Ибо так как жить есть, по существу, прехождение и гибель. Причем вопрос стоит только о том, какой гибелью погибнуть: достойной или недостойной, и лозунгу «учиться жить» следует противопоставить другой – учиться погибать.
Но еще выше ставлю я тип неудачника в удаче.15 Тип трагического удачника, тип Блока, Марка Аврелия и, в сущности, самого Толстого. Вместо грубых внешних побудителей ощущения погибания, есть на лицо чисто метафизическая агония, постоянное ощущение зла, тоски и метафизической боли, которого не было у Гете, и потому Гете лжец или Серафим. Блок замечателен именно par sa nuit en plein jour.16
Тем, что он гиб, будучи атлетом, красавцем, знаменитым, обеспеченным.
То же относится и к Отцу Сергию – Толстому и к прекраснейшему из императоров, который спал на голых досках и босиком проходил через Альпы. В знаменитом «падении» Блока17 вижу я его спасение и удачу звездную.
Чем был бы Блок, если [бы] удался в своем первоначальном смысле, вероятно, чем-то средним между постным протестантским святым и холодно светским средневековым рыцарем, во всяком случае никогда в его душе не пропели бы ощущения «Девушки в церковном хоре» или «Двенадцати».
То есть, не то, что он их никогда не написал бы, это как чепуха и наша удача; он никогда бы не почувствовал этого.
Но где-то еще выше снится мне тип рыцаря вполне удавшегося и внутренне, но всегда погибающего постоянно уже просто потому, что он вообще соглашается жить на земле. Такому человеку единственное, что хотелось бы сказать, это: «Самое лучшее – это Тебе умереть», а он ответит: «Нет, я еще останусь немного». Принимая в соображение все это, мне почти хочется сказать: «падающего толкни…».
Но, кажется нам, удача в этом мире есть гибель в том, то есть в проявленных формах музыки есть гибель в ее духе. Только то достойно живет, что мыслит только достойно умереть или вернее с достоинством умирать и отдавать всю жизнь.
Ибо не та смерть страшна, которая приходит единожды в конце, а та, коею умирают постоянно, которая пронизывает жизнь насквозь, умирание всех часов, всех дней, гибель всех чувств, всех освещений, всех запахов, всех утр, всех воспоминаний.
И кажется нам, жизнь, пронизанная неудачей, жизнь, никогда не смогшая зацепиться за жизнь, ближе к духу музыки, чем жизнь, каждая минута которой была маленькой внешней победой.
Кажется нам, жизнь неудачников острее и чище, и стихи малоталантливого и погибшего поэта острее и трогательнее стихов талантливого и удачливого императора.18
Почему? Потому что неудачник ближе к некой основной правде о жизни, он ближе и постоянней с ней соприкасается, потому что она была трагичнее, и вообще за неудачниками некая великая мистическая правда. Между прочим, тайная правда всякой богемы, с высоты которой она презирает литературных победителей, но которую она тотчас же потеряла бы, если бы она заняла их место.
Вообще, всякая неудачная разбитая жизнь, une vie ratйe, гораздо музыкальнее и правдивей всякой жизни удачной. Так, жизнь Печорина, Ленского, Обломова, Анны Карениной, Ставрогина, подобно жизни Христа и Сократа, выше и значительнее жизни Онегина, Левина, да и нельзя привести большое количество примеров в русской литературе, настолько они были по-моему просто противны русской душе.
По-моему, Толстого прямо тошнило, когда он писал Левина, подымающего гири, но это было для него вопросом чести показать, как добродетель спасает.
Георгий Викторович Адамович19 как-то говорил мне, что можно самому погибать, но нельзя учить погибать других. Но кажется мне, это правило терпит исключение для тех, кто сами себя не жалеют и поэтому имеют право никого не жалеть.
Храбрые люди болеют и уничтожаются от чужой жалости под влиянием ее щемящего потока, они сами принимаются жалеть себя под влиянием чужого страха за них, они сами начинают ужасаться рискованности своей жизни, и это причиняет им глубочайший вред.
Кажется мне, храбрый вообще не ищет человека, который бы его спас, а наоборот, человека, который бы его погубил, помог бы ему погибнуть. О человеке, который что-то увидел бы в нем, некий смысл и, посмотрев на него, сказал бы: иди и погибни. «Как я люблю вас, вся душа которых превратилась в душу вашей добродетели.
Тем охотнее идете вы через мост», – говорил наглый немчик, тот, которого называл Толстой наглым немчиком Ницше, не помня о том, что Ницше был тяжело болен, полуслеп и совсем уже чужим человеком на земле, когда он писал эти слова. Слишком уж русская душа склонна гладить так, маслить, погубить и утешать человека.
Розанов20 главным образом больше других был прекрасно неправ в этом, слишком он уж все принимал к сердцу и не мог ничего от себя оторвать, как в каком-то беспрерывном вальсе любви.
Существует иная мистика и как бы мистика другого аспекта божества, Творческого огня, третьего лица, святого духа, все созидающего и вновь разрушающего все, чтобы все шло выше и дальше по-другому и по ту сторону. Ибо все формы лишь временные фигуры некого безостановочного танца Шивы, которые должны все время сменяться другими.
Может быть, настоящая любовь совершенно не жалеет и не щадит любимого.
А зачем было той прекрасной сентиментально моральной России вечно продолжаться, почему ей было не погибнуть за свое основное добро, за непротивление злу, так несомненно воплотившемуся в Керенском, погибли за что любили, за отказ от смертной казни и сколько бы Керенский ни подписывал приказов о восстановлении ее, не было у него в душе того, чтобы ею широко пользоваться. Она прекрасно погибла, та старая Россия грязных идеалистических студентов и комических длинноволосых мечтателей, она не защищалась, не цыплялась особенно за жизнь, интеллигенция никогда в массах не настаивала на Белом движении и поэтому она, может быть, и воскреснет. Но и сладостна единственная сладостность эмиграции в несомненной ее безнадежности и гибельности. А зачем эмиграции удаваться и триумфально возвращаться, не лучше ли прекрасно и нежно погибнуть с вежливой и энигматической улыбкой на устах. Если она права, разве правость уже не есть что-то само в себе глубоко достаточное, с чем легко умереть. Абсолютное счастье не больше и не меньше от того, продлится [ли] оно одну секунду или тысячу лет, ибо оно уже абсолютно, говорил человек, пять раз соединившийся с Богом, римский упадочный соловей Плотин.21
Важно достигнуть смысла и сгореть, отсиять в нем. Да и нельзя долго созерцать Божество, не умирая, но все же созерцать Божество достойнее, чем жить.
Я вполне согласен с Адамовичем, что именно милее еще эмигрантские собрания своей безнадежностью, своей малочисленностью, своей бедностью, что-то есть в этом от примитивного христианства или от философствования стоических рабов в грязных и неудобных банях, где стригли собак и воровали вещи и преподавал Эпиктет22.
И все эти комические и милые шубы и галстуки Цеха Поэтов, все это милое и стоическое кокетство перед вечностью, как будто ничего не случилось, а как будто здесь Петербург и редакция «Аполлона»23.
Я часто думаю, что за чудо: государства погибают, революции сотрясают мир, а Николай Оцуп24 продолжает ходить в котиковой шубе, как будто ничего не случилось.
Несомненно Оцуп попадет за это в ад, но ведь и действительно, пожалуй, ничего не случилось и нечего особенно неприлично волноваться: по-прежнему человек борется с роком и сном, как эсхиловский герой Христос в нем агонизирует, как от начала до конца мира.
Только погибание в декорациях эмиграции стало острее и забавнее и очистилось от всех этих отвратительных запертых квартир, где мучают детей,25 люстр государственных служб и неправедных денег в банках, от которых так страдал Блок.
В эмиграции мы все погибаем более наглядно и схематически, как в декорациях китайского театра, и в сущности – да ничего не случилось. Оцуп прав, что ходит в котиковой шубе.
Все так же:
Выхожу один я на дорогу
Сквозь туман кремнистый путь блестит
Ночь тиха пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит
Да, пожалуй, и хорошо, что так все обнищали и что мало нас, ведь будь мы в России, большинство здесь присутствующих не присутствовали бы вовсе на балете, сидели или просто купоны дома стригли в халате или просто спали бы, наевшись и нагревшись в глубине этих отвратительных, огромных и заставленных чудовищно безвкусной мебелью российских квартир. Смерть весьма обитаема, говорит ассирийская таблица.
Очищается счастье от всякой надежды…26
Я еще раз в заключение повторю свой любимый образ. Во время одного восстания в Кастилии арабы сражались с венками из роз на шлемах, как обреченные на мученическую смерть. Так кажется мне увенчанным в венок всякий, добровольно согласившийся на мученическую смерть.
Но недостаточно еще только согласиться на мученическую смерть, чтобы действительно согласиться с духом музыки.
Следует еще воспеть это, прославить свое наконец достигнутое примирение с богами, подобно одной римлянке, муж коей был приговорен к самоубийству и все не решался его исполнить, тогда римлянка взяла у него из рук кинжал и, проткнув себе им шею, сказала, подавая кинжал своему мужу: «Видишь, это не больно».
_____________________________
Источник: http://magazines.russ.ru/nj/2008/253/po18.html